
Этюды из истории Франции
Примат Франции
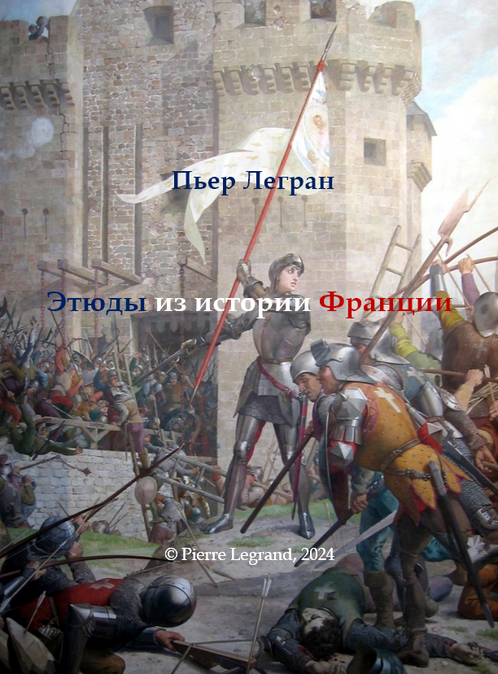
Cormorant Garamond is a classic font with a modern twist. It's easy to read on screens of every shape and size, and perfect for long blocks of text.
Франция — центр европейского средневекового мира и ведущая его культура, — в Высоком средневековье[1] переживает экономический расцвет. Совершенствуется техника агрикультуры. Конная упряжка и тяжелый колесный галльский плуг с железным лемехом, возрожденная из античности водяная мельница и заимствованная на Востоке ветряная[2], система трехполья и мергель повышают эффективность сельского хозяйства, создавая излишек продуктов, что приводит к демографическому всплеску. За сто лет, с 1100 по 1200 гг. население выросло в полтора раза и достигло 9,2 млн. человек[3], впервые превысив население Галлии доримского периода[4].
Рост благосостояния вызывает настоящий культурный взрыв. Повсеместно деревянные замки сменяются каменными. В центрах растущих городов возносятся грандиозные кафедрали, в Париже взмывает к небу Notre-Dame, которому суждено стать символом французской культуры. Вслед за материальной культурой прогрессирует и духовная. Недаром XII столетие называют веком французского Ренессанса, на которое он имеет как минимум не меньшее право, чем «классический» итальянский. Во Франции возникают первые в Европе (помимо Болонского) университеты: в Монпелье, Тулузе, Париже (1145 г.), Орлеане. Но если царящая в их стенах классическая латынь остается языком ученых схоластов и клириков, языком трактатов, ордонансов и хроник, то живой французский язык порождает литературу национальную, расцвет которой приходится на XII—XIII вв., и выходит далеко за границы Франции.
Не будет преувеличением утверждение, что история Средних веков, — это история Франции. Ее раннефеодальный «период повсеместно был временем глубокого общественного переворота, опережавшего по времени своего осуществления многие соседние страны»[5]. Во Франции зарождались и приобретали законченную форму эталонные черты феодализма. Во Франции раньше и полнее протекали процессы, характерные для эпохи в целом: уже в XII—XIII вв. началось освобождение крепостных. Знаменитый ордонанс Людовика X об освобождении крепостных королевского домена издан 3 июля 1315 г., где, помимо прочего, дается указание «чтобы и другие сеньоры <…> по примеру нашему, привели их [сервов] в свободное состояние». В картуляриях, ордонансах можно найти более ранние упоминания: грамота Санского аббата об освобождении крепостных датирована 1288 г., а еще в 1180 г. Людовик VII освободил сервов Орлеана и окрестностей[6].
В прочих странах эти процессы протекали многократно медленней, зачастую, поворачивали вспять. Иллюстрацией такого разительного отличия может служить описание Домреми, родной деревни Жанны д’Арк: «Через Домреми проходили две границы. Одна — между Французским королевством и герцогством Лотарингия, входившим тогда в состав Германской империи; рубежом здесь была река Маас, на левом берегу которой расположена родная деревня Жанны. Вторая — между собственно королевским владением в герцогстве Бар (Barroi mouvant) и той частью герцогства, которая являлась феодом Империи. Рубежом служил безымянный ручей, пересекавший Домреми поперек, с запада на восток, и впадавший в Маас.
Дом Жака д’Арка стоял на северной, «королевской», стороне. Обитатели этой части деревни были лично свободными людьми, феодальными держателями земли, чьи обязанности по отношению к непосредственному сеньору, каковым для них являлся король, практически сводились к выплате определенного, строго фиксированного побора (ценза). Однако их соседи, жившие буквально в нескольких шагах, за ручьем, находились в личной зависимости от [имперских] сеньоров Домреми и подвергались гораздо более интенсивной феодальной эксплуатации»[7].
Интенсивная эксплуатация — это шампар (оброк продукцией труда, до ¼ урожая; барщина, отнимавшая у серва два-три дня в неделю страды; шеваж — унизительная подушная подать; произвольная талья[8] (taille à merci); формарьяж — подать с сервов за право брака со свободными или сервами из других сеньорий; наконец, менморт — право «мертвой руки»: феодал забирал землю и все имущество серва после смерти последнего, если у того не оставалось наследников, живших с ним «одним очагом»; это касалось личного серважа, при поземельном в подобной ситуации к феодалу отходила только земля, имущество наследовали дети, ведущие свое (отдельное от отца) хозяйство. Так жила «имперская» часть Домреми.
Во французской стороне крестьяне полностью распоряжались своими мансами: дарили, продавали, завещали. В случае смерти без завещания, земля передавалась ближайшим родственникам (жене, детям, etc.)
Пик закрепощения (!) в германских княжествах пришелся на XVI в. Причем обращались в кабалу не только госпиты или немногочисленные уцелевшие с древности аллодисты, но и потомки «раскрепощенных» крестьян. Столь поздний всплеск раннефеодального процесса закрепощения объясняется не только социально-экономической отсталостью Германии, но и переходом иных князей, в условиях участившихся внутренних войн, к «экспортному» монокультурному производству зерна, иных продуктов: феодал «заключал контракт» на централизованные поставки провианта какой-либо армии или более крупному лоскуту «империи», получая оплату деньгами. В итоге он нуждался не в денежной ренте цензитария, а лишь в дешевой рабочей силе серва. Барщина становилась основным видом повинностей. Таким образом причудливый синкретичный симбиоз древних раннефеодальных порядков с новыми буржуазными привел к социальному регрессу, послужил причиной крестьянской войны 1524—1526 гг. Тогда «реформатор» Лютер призывал феодалов «убивать крестьян как бешеных собак», «заслужить вечное блаженство, вырезая этих скотов»[9], причем в равной степени эти пожелания относились как к католикам, так и к прозелитам его «учения».
Положение испанских сервов мало отличалось от рабского состояния времен империи. В Англии, начиная с конца XV в. в процессе огораживаний, крепостных, и даже свободных издольщиков пауперизовали, согнав с земли, отобрав все имущество. Против тех из них, кто имел наглость не умереть, издавались «кровавые законы»: бедняг клеймили, калечили (отрезали уши, носы, рубили руки). Томас Мор съязвил, что в Англии «овцы сожрали людей». В своем сочинении он превращал их в «общественных рабов». Это оказалась единственная идея «Утопии», которую немедленно претворили в жизнь: построили работные дома, снискавшие в истории мрачную славу задолго до «Оливера Твиста». В этих новых эргастулах несчастных уничтожали непосильной работой, за миску баланды. С начала XVII в. белых рабов стали вывозить в колонии, раздавая поселенцам для самой грязной и тяжелой работы[10].
Поразительно, сколько «лишних» людей обнаруживалось в столь слабо населенной стране! Сельское хозяйство Англии всегда оставалось на низком уровне, что сдерживало рост населения. На XVI в. некий Роджерс приводит цифру, очевидно заниженную, но дающую общее представление о демографии острова, в 2,5 млн[11]. Для сравнения: из неполной переписи населения Франции 1328 г. можно вывести 16—20 млн[12]. Симптоматичен эпизод, относящийся уже к 1753 г., кануну нападения англичан на Францию: предложение переписи населения было отклонено в парламенте с формулировкой «она обнаружит врагам слабость Англии»[13].
Любопытны противопоставления в такой знаковой теме, как борьба с ересями. Доминиканская инквизиция зародилась во Франции как реакция на реальную опасность — катаров-альбигойцев, провоцировавших религиозную распрю и сепаратизм Юга, тормозивший консолидацию Франции. Секты с их полувоенной организацией, дикими кутюмами, вроде эндуры[14], с непримиримой ненавистью к католичеству[15], партикулярными устремлениями, подрывали централизаторскую французскую политику. Разгром альбигойцев усилил французского короля, присоединившего к домену Лангедок. Вопреки расхожей легенде, инквизиторы тогда не зверствовали: за 20 лет (1226—1246 гг.) из 140 приговоров, вынесенных в Тулузе, — ни одного смертного[16].
В германской «империи» не происходило массовых движений, подобных альбигойскому, императоры постоянно конфликтовали с папами, инквизиция, как инструмент охраны церкви их не интересовал. Зато многие немецкие еретики, как и повсюду, происходили из буржуа (зажиточных горожан). Император Фридрих II увидел в них источник дохода, издав в 1231 г. указ, экспроприирующий осужденных отступников: имущество сожженного конфисковали, большая его часть шла светской власти, то есть местному сеньору. Именно он был заинтересован в смертном приговоре, который и приводил в исполнение (инквизиция только выносила вердикт, оставляя светской власти прерогативу помилования, которой, разумеется, та никогда не пользовалась). Охота на ведьм стала выгодным делом. Спустя 200 с лишним лет, в 1487 г., когда ереси практически сошли на нет (во Франции разгромлены в XIII в.), в немецком тогда Страсбуре издается изуверское пыточное руководство «Молот ведьм», преследование мнимых еретиков разгорается с новой силой, — ради чисто фискальных целей немецких князьков.
Французские духовенство и рыцарство, невзирая на не всегда идиллические отношения с Римом, самым деятельным образом участвовали во всех первостепенных вопросах Святого престола. Клюнийская реформа[17] зародилась во Франции, находила там большую поддержку, вопреки определенной оппозиции крупных сеньоров и короля, которому симония[18] и регаль[19] служили немалым подспорьем в борьбе с более богатыми и сильными вассалами. Временами он довольно цинично игнорировал клюнийскую кампанию, как в 1073 г., когда не инвестировал[20] выбранного епископа Макона, пока тот не заплатил. Особая ирония заключалась в том, что в Маконский диоцез входило аббатство Клюни. Зато иной рыцарь жертвовал клюнийцам доход с единственного манса, который держал от него виллан[21].
Идея крестового похода также выдвинута и воплощена французами. 26 ноября 1095 г., в центре Франции, на Клермонском соборе, папа-француз, бывший приор монастыря Клюни, Урбан II, в присутствии тысяч французских рыцарей, пятисот аббатов и епископов, съехавшихся со всех концов страны, призвал к выступлению на Восток. Все участники первого вояжа в Палестину — из французской ойкумены, все государства крестоносцев основаны франками. Слово «франк» еще при каролингах утратившее узкоэтнический характер (поскольку племена франков исчезли, ассимилированные галло-римлянами), буквально означало «свободный», встречалось только в латинских текстах (за неимением в латине слова «француз»), и применялось ко всем жителям Франции (Frantia или Королевства франков — Regnum Francorum), в широком смысле — ко всем говорящим на французском языке, то есть французам, в том числе не находившимся под суверенитетом французского короля, как один из лидеров похода, лотарингский герцог Годфруа Бульонский.
Как бы ни были антиномичны декларируемые лозунги и практические цели похода, он в немалой степени способствовал культурному и экономическому росту Европы, а Францию сделал «первой дочерью католической церкви».
Напротив, у немцев, чьи императоры узурпировали звание Римского короля и стремились политически подчинить Рим, отношения со Святым престолом заканчивались Каноссой[22] или Барбароссой[23]. А английский (пусть и на 100% француз) король Ришар (Ричард) I, столетия спустя получивший от английских пропагандистов вычурную кличку «Львиное сердце», возвращался из Третьего крестового похода, пробираясь тайком, по-воровски — слишком многих убил и ограбил на пути в Святую землю: вырезал все население католической Мессины, разграбил и захватил христианский Кипр, etc.; в итоге «гнусный убийца маркиза [Монферата] был схвачен, когда, переодевшись слугой, жарил краденых кур на какой-то кухне»[24]. И этот герой стал одним из первых английских (пусть и не был англичанином) «голых королей», на создание которых английские мифотворцы такие мастера. Вот уж действительно национальный талант.
С XII в. более высокая культура французского рыцарства покоряет соседние страны посредством литературы и языка. Поэтические рыцарские романы переводят на языки всех европейских стран, но чаще читают и слушают на языке оригинала, что способствует небывалой популярности французского языка. Он становится международным, наравне с латиной. Изучать французский является хорошим тоном. Даже в пиратской Норвегии «Королевское зерцало» XIII в. поучает, что знать французский язык совершенно необходимо для образованного человека[25].
В германских землях пишется множество переделок и подражаний французским романам, через них усваивается огромное число французских слов, суффиксы ei, ien, eiren, etc. Adenet le Roi в своей поэме рассказывает, что все немецкие сеньоры, графы и маркизы, взяли за обычай держать в окружении своем французских наставников «для обучения французскому их дочерей и сыновей» (Pour aprendre françois lor [=leur] filles et lor fis). Влияние французского на итальянский проявляется столь сильно, что там складывается особый литературный франко-итальянский язык. Флорентинец Брунетто Латини пишет на французском свое главное сочинение Li tresors (1265 г.), Марко Поло — книгу о вояже на Дальний Восток. В итальянском так же сохраняется множество французских слов[26]. О решающем влиянии французского языка на английский см. нашу работу «Как английский король Жан стал Безземельным».
Развитие языка, культуры и особенно литературы во Франции, колоссально контрастирует с духовной нищетой соседних стран. Скажем, немецкий эпос, поднатужившись, выдал «Нибелунгов», как эхо того ужаса, который когда-то испытали германцы при виде полчищ Аттилы[27]. Прочий немецкий мифопоэтический материал — это, как правило, вышеупомянутые переделки с французского. В англосаксонских «королевствах» до французского завоевания вовсе не родилось ничего примечательного.
Это соответствует тезису Белинского о корреляции масштабов литературных памятников с «духом нации» (по поводу оды чухонской «Калевале»): «Особенно возбуждал в нас сомнение последний довод, в пользу превосходства финской поэмы над поэмами Гомера, состоящий в том, что финская эпопея в одно описание стеснила [вместила] весь национальный дух, тогда как Гомеру нужно было создать для этого две большие поэмы. Что ж тут мудреного? — думали мы. Иной национальный дух так мал, что уложится в ореховой скорлупе, а иной так глубок и широк, что ему мало всей земли»[28]. Как французскому. Неудивительно, что…
«…сменили
ассирян — мидяне,
мидян — персы,
персов — македоняне,
македонян — римляне,
римлян — греки [византийцы],
греков — французы»[29].
__________________________
[1] Высокое или Зрелое средневековье: XI—XIII вв. — период между «темными веками» (VI—X вв.) и поздним средневековьем (XIV—XV вв.). Коррелирует с периодом сложившегося старофранцузского языка, сменяемого в XIV—XV вв. стадией среднефранцузского.
[2] Водяная известна во Франции с IX в., в соседних странах с X—XI вв.; ветряную французские крестоносцы встретили во время Первого похода, он был чисто французским, потому в. м. раньше появились во Франции.
[3] История крестьянства в Европе. Т. II. М., 1986. с. 97.
[4] 6—8 млн. (История Франции. Т. I. М., 1972. с. 20).
[5] История Франции. Под ред. А. Манфреда. Т. I. М., 1972. С. 51.
[6] Текст этого указа, и акта Филиппа II Августа, его подтверждающего: Гизо Ф. История цивилизации во Франции. T. IV. 2006. С. 231—233; также известна грамота монастыря Ферьер 1185 г., переводящая сервов в цензитарии (см. Хрестоматия по истории средних веков. под ред. Сказкина. Т. II. М., 1963. С. 367—369).
[7] Райцес В. И. Жанна д'Арк, факты, легенды, гипотезы. Спб., 2003. С. 62—63.
[8] Ежегодный побор, взымаемый феодалом с держателя манса (а также с городов). Не путать с королевским налогом, введенным Шарлем VII в 1439 г. ордонансом о постоянной армии. До того экстраординарно вводился Людовиком IX, аналогично «щитовым деньгам».
[9] Манн Т. Собрание сочинений. Т. 10. М., 1961. С. 312.
[10] Подробно о белых рабах-сервентах в колониях см.: История США. Т. I. М. 1983. С. 24—25, 33—35.
[11] Кулишер И. История экономического быта Западной Европы. Т.II. Челябинск, 2004. С. 6.
[12] История крестьянства в Европе. Т. III. М., 1986. С. 291.
[13] Кулишер. op. cit. C. 6.
[14] Endura —умерщвление больного голодом, жаждой, отказом в лечении, если он уже принял consolamentum (от solamen — утешение).
[15] Неспроста одиозные пуритане прозвали свою секту на катарский манер, заменив греческий эпоним латинским: kataros (греч.), purus (лат.) — чистый.
[16] История средних веков. Под ред. А. Удальцова. М., Т. I. 1941. С. 464.
[17] Кампания по очищению церкви от роскоши, сибаритства, симонии (см. прим. ниже), николаизма (манкирования принципа безбрачия).
[18] Симония — практика косвенной продажи аббатской или епископской кафедры. Крупный феодал, в чьем домене располагался приход, продавливал на выборах заплатившего кандидата, либо вымогал у выбранного за инвеституру.
[19] Droit de Régale короля — право получать доход с вакантного церковного бенефиция. См.: П. Легран. Галликанская церковь. 2021.
[20] Церемония посвящения клирика в сан. Без нее нельзя отправлять обязанности, получать доходы с бенефиция.
[21] Хрестоматия по истории средних веков. Под ред. С. Сказкина. Т. II. М., 1963. С. 362.
[22] Место покаяния имп. Генриха IV папе Григорию VII в 1077 г. Традиция гласит, что император несколько дней, босой, в одном рубище, простоял на коленях у ворот замка, в ожидании папского прощения. Каносса стала символом немецкого афронта в борьбе с папством, и нарицательным для определения крупного фиаско.
[23] Pauvre prince утонул в мелкой анатолийской речке по пути к Гробу господню.
[24] Саламбине де Адам. Хроника. Лист 214 d.
[25] Сергиевский М. История французского языка. М., 1938. с. 45.
[26] Там же. с. 45—46.
[27] И как иллюстрацию германской привычки купаться в крови.
[28] Белинский В. «Главные черты из древней финской эпопеи Калевалы». Морица Эмана. 1847.
[29] Рабле Ф. Повесть о преужасной жизни Великого Гаргантюа. Гл. I.
© Pierre Legrand | Пьер Легран, 2024
Читать в PDF